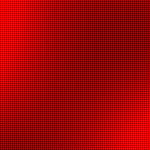Трагедия князя Трубецкого
Стенограмма передачи “Не так” на радиостанции “Эхо Москвы”
С.БУНТМАН — Программа «Не так!», совместная с журналом «Знание — сила», у нас в гостях Андрей Левандовский, с которым мы встречались уже в прошлый раз. Сегодня мы будем говорить о трагедии князя Трубецкого. Объясните в двух словах, что это, и потом идем вглубь.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — В общем, обе передачи тесно связаны. Опять Московский университет, но это уже начало ХХ века. В общем, вкратце трагедия в следующем: благодаря князю Трубецкому были изданы в конце августа 1905 года, в разгар революции, «Временные правила», которые предоставили университетам автономию — это заслуга Трубецкого на сто процентов. Он стал первым выборным ректором — 2 сентября был выбран — Московского университета. 3 октября он умер. И он не просто умер, его практически убили. Вот, трагедия в том, как борьба за нормальное положение дел — потому что университетская автономия — это не более, чем нормальное положение дел — приводит к гибели того, кто за это борется.
С.БУНТМАН — Ну, а теперь… теперь… это было краткое содержание — вот такой триллер всей этой истории.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Как ни печально, именно триллер.
С.БУНТМАН — Да. Ну что же… перейдем теперь и к контексту, и к, собственно, к судьбе. Университет… Меня поразило в свое время в воспоминаниях… вернее, это было, по-моему, или в письмах, или в записных книжках Александра Блока — то, что меня еще в студенческое время поразило: когда были волнения в Университете, попытались устроить полицейский пост во время волнений. Попытались попроверять хоть какие-то документы и соответствия студентов студенческому статусу. Это вызвало такую бурю возмущения, которая нам и не снилась, например. В 70-х годах. Вот это вызывало зависть, но… вот какой был статус Университета, и вообще, каковы были его вольности, если они были?
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Дело в том, что университет в России в XIX веке — Вы знаете, это как меха гармоники: сначала автономию дают, потом ее отбирают, устанавливают максимально жесткий бюрократический режим, потом снова дают, снова отбирают — поэтому все было очень по-разному. Мы, наверное, должны плясать, поскольку речь идет о Трубецком, от устава 84 года, устава Александра III, Катковского устава знаменитого. А это, наверное, самый жесткий из всех уставов, какие только были, потому что профессора приравнивались к служащим, к чиновникам, полное прекращение выборности, ученый совет перестал играть какой бы… совет университета — какую бы то ни было роль. А в отношении студентов, учащийся — единица. Полное отрицание корпоративности, как таковой — и преподавательской, и студенческой. Т.е. это не более чем отдельные личности, находящиеся в государственной структуре. Вот, собственно, Трубецкой… Ну, Трубецкой вообще небожитель… нет, не небожитель — слово не подходит. Мне кажется, человек будущего. Мы же все-таки… вот эта кроманьонская жизнь начинает, вообще, надоедать, я уверен, что еще будет антропологическая революция… У нас же кроме кроманьонцев еще неандертальцев много, питекантропов до сих пор еще — происхождение, по-моему, продолжается. А Трубецкой — это человек, для которого, при его искренности, простоте, удивительной силе ума, который никогда не занимался манипуляциями, карьерными какими-то делами, для которого Университет был целью, скажем так. Вот мы в прошлый раз говорили об отсутствии связки — помните? Гуманитарии, общие идеи и запущенная страна. У него программа. Он ее очень ярко выразил в целом ряде статей — он, кстати, замечательный историк философии, но он много писал об Университете, студенчестве. С его точки зрения, в Университете, в какой-то степени, спасение России. Университет готовит будущее. И причем это были не просто слова, была программа. Причем подходы какие? Не только профессионалы — вот модное очень сейчас слово — а люди, духовно глубокие, хорошо понимающие суть проблем, стоящих перед Россией. Университет должен готовить именно таких. Т.е. не просто хороших агрономов, техников, инженеров, учителей, врачей, а людей, сознательно…
С.БУНТМАН — Ну, для этого есть специализированные школы…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Совершенно верно.
С.БУНТМАН — Да.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Совершенно верно.
С.БУНТМАН — Профессиональные.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Совершенно верно. Университет готовит специалистов, которые в то же время являются сознательными строителями своей страны. А для того, чтобы эта программа была осуществлена, с его точки зрения, необходима была автономия. Причем его не столько выборы интересовали, сколько, вот, студенческая корпоративность. Профессура и студенчество должны слиться в единое целое. Должно быть полное взаимопонимание. И вот то, что сейчас называется внеаудиторной нагрузкой, должно в какой-то степени выйти на первый план. Лекции, семинары — это само собой. Но самое главное — живое общение, разнообразные научные студенческие общества, работа взаимно обогащающая университет в целом. И вот, даже в условиях этого жуткого устава ему довольно многого удалось добиться, потому что он был… понимаете, вот он очень сильное впечатление производил на чиновников. Я могу понять — чиновник, все-таки, от людей подобного рода всегда ждет какой-то закавыки. Такое впечатление, что пришел человек с камнем за пазухой. А Трубецкой брал предельной искренностью, открытостью и, как бы сказать, благонамеренностью, если можно сказать, в лучшем смысле этого слова. Т.е. совершенно очевидно было, что человек хочет хорошего. Ну, чиновники, они не злодеи, они тоже хорошего хотят, только по-своему. Здесь, возможно, были определенные договоренности. Сначала был кружок небольшой, потом роскошное Историко-филологическое общество с обширной программой, с рефератами, совершенно потрясающей поездкой в Грецию — ничего ж подобного до того не было. А тут с Трубецким три десятка членов общества за счет Университета — ну, точнее, министерства просвещения — но ведь добился, выделили — при нищем просвещении нашем — по побережью Греции. Причем, в России смута надвигается, а здесь как будто, вот, островок добра и счастья: Греция, священные развалины, Трубецкой, который рассказывает об этом, и полное взаимопонимание между всеми, кто в этой поездке был. Воспоминания сохранились. Ну, такое ощущение, будто люди побывали на небесах, и потом снова их бросило на грешную землю. Так вот, в чем, опять-таки, исходная трагедия? Оказалось, что есть сила, более страшная, чем бюрократы — это радикализированное студенчество.
С.БУНТМАН — Так.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Вот. Вот эти вот… реакция на полицейский пост — это всего лишь одно из проявлений. Характерно, что примерно такая же реакция на Историко-филологическое общество.
С.БУНТМАН — А вот где здесь можно найти параллели, потому что понятно, что когда стоит полицейский пост — «Что это я буду еще кому-то что-то предъявлять и вообще, доказывать? Это мой дом — Университет! И я сюда хожу».
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Само собой. Это нормально.
С.БУНТМАН — Да. А это вот такое нормальное, хорошо… индивидуальное и свободолюбивое.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Но, к сожалению, это проявление общей тенденции. Полицейский в данном случае — слуга режима, мы боремся с режимом, и самое главное — это борьба с режимом. Вот это знаете, это наводит тоску. Когда знакомишься с университетом, особенно с Московским, вот этого времени — конец 90-х, начало ХХ века — уже в прошлый раз говорили — это место, где сам Бог велел учиться на высшем уровне. Великолепная профессура, открытое, кстати, студенчество, великолепный общий уровень преподавания — и в это время на первый план выходят социал-демократы и эсеры, которые заявляют, что нужно не учиться, а бороться за изменение существующего строя. И студенты должны здесь быть передовым отрядом. Учиться вообще плохо, а учиться сверх положенной программы — это, ну как сказать, сдача позиции. Это штрейкбрехерство своеобразное.
С.БУНТМАН — А что нужно при этом? Нужна деятельность. И университет — это только поле этой деятельности.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Это поле деятельности.
С.БУНТМАН — Только?
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Только поле деятельности. Учеба для прикрытия. Задача… Вы не представляете, до какой степени прямолинейно это выражают, скажем, в социал-демократических листовках: «Учиться сейчас не время. Сейчас время использовать университетские аудитории для борьбы за счастье трудового народа» — буквально так. Ну, и понимаете, вот это… чем кончается Историко-филологическое общество? Это очень любопытно. Трубецкой, вообще, надорванный всеми этими делами, уезжает за границу и оттуда пишет письмо, потому что противники этого общества, студенты, срывают заседания, устраивают провокации — он предлагает уйти в подполье. Разбиться на пятерки, десятки и подпольно изучать Платона. Ну где еще это можно найти? Чтобы эти враги не знали. Человек, ненавидевший, вообще, тайны, секретность, человек, открытый всему миру, для того, чтобы возможно было изучать, там, средневековую схоластику, предлагает уйти в подполье — там этим заниматься, потому что иначе ничего не получается.
С.БУНТМАН — Неужели такой вот общественный ветер, он настолько силен, что от него нужно скрываться, а не только от государства, предположим?
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Бюрократия… Вот для меня тоже было шоком, когда… ну, вот, кстати, ведь юбилей же опять печальный — революция и смерть Трубецкого, и вот эти «Временные правила». Для меня в свое время это было шоком — даже вот, при общем знании истории, трудно предположить, что это может быть до такой степени откровенно прямолинейным. С другой стороны, ведь я еще воспитывался на трудах Владимира Ильича Ленина. Они вот именно столь прямолинейны и откровенно убойны: либо так, либо пошел вон. Все это… вот понимаете, дальше оборот ведь произошел удивительный: Трубецкой выступил в составе этой знаменитой земской городской депутации к Николаю в разгар революции, к Николаю II, выступал с речью о необходимости созыва народных представителей. Николай не терпел этого словосочетания.
С.БУНТМАН — Народные представители.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Народные представители. И Николаю его речь понравилась. Николай ведь был человек-то, по-своему, чуткий, и у него было ощущение постоянной борьбы с врагами. А в чем была сила Трубецкого в данной ситуации? Он не производил впечатление врага. Он производил человека, до глубины души потрясенного тем, что происходит вот в 5-м году в России, и искренне пытающегося даже не подать совет, а руку подать. Ходили упорно слухи, что царь хотел Трубецкого сделать министром просвещения. Но это также, наверное, невозможно, как академика Сахарова — ничего бы не получилось. Но, благодаря Трубецкому, царь дал «Временные правила», которыми предоставил Университету широкую автономию — это у нас конец августа, по-моему, 28-29 августа 1905 года. И что получилось?
С.БУНТМАН — Т.е. еще до всяких Манифестов и все…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — О! До Манифеста.
С.БУНТМАН — Да.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Получилась система смежных сосудов. В Университет полиции входа нет — повсюду полиция властвует. Университет экстерриториален, и здесь свобода слова — везде митинги запрещены. Митингующие хлынули в университетские аудитории, и наступил коллапс. По несколько тысяч человек, которые к Университету не имели никакого отношения, заполняли университетские аудитории, коридоры и, естественно, боролись за счастье трудового народа. Полиция вела себя корректно, но Трубецкой получил известие от градоначальника, что в Манеже полк солдат — 3 сотни казаков; будут хоть какие-нибудь эксцессы — будет стрельба. Он боролся до последнего. И вот сейчас читать, там, то, что Рыжков пишет — впоследствии известный профессор, а тогда пропагандист социал-демократов — как он приложил академистов, Трубецкого. У Белого есть замечательные строки: Последняя попытка Трубецкого договориться со студенчеством — видно, что ничего не получается, и вот он последнюю фразу: «Ах, господа, господа!», и слезы на глазах. Потому что Университет гибнет, и он его своей властью закрывает, чтобы избежать кровопролития. И тут же получает «либерального холопа» от социал-демократов, эсеров и прочих. У революционеров совершенно определенные подходы: царь уступил — этим надо воспользоваться. Никакой учебы, а использование Университета в целях революции. Трубецкой едет к министру Глазову, причем знаете, с какой программой? Чтобы спасти Университет, надо свободу слова дать всей России.
С.БУНТМАН — Вот! Вот! Вот только я хотел сказать — вот эти сообщающиеся сосуды…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — Вот здесь. И когда нас спрашивают — Марк, например — «Вы очень хорошо все рассказали, но непонятно, отчего у студентов возникли такие настроения. Трубецкой выглядит полным идеалистом». Нет, не полным, потому что он… он работает в другом контексте.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — Он совершенно…. Но то, что… и он же предлагает и народное представительство.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Конечно.
С.БУНТМАН — Когда единственное место… Университет получается единственным местом — туда не могут не хлынуть все. Когда получается, что знание, где люди занимаются, сидят по несколько человек и что-нибудь читают — здесь можно читать и все остальное.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — И друг друга учить чему-то, во всех кавычках, «настоящему».
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Ситуация чумовая, конечно.
С.БУНТМАН — Конечно! Это свидетельствует о том, что в таком контексте университет вольный и настоящий, изолированный от всего, существовать просто не может. Поэтому это называется не драма, не комедия, а трагедия Трубецкого.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Трагедия, конечно, потому что это, как бы сказать, не искусственно кто-то состряпал…
С.БУНТМАН — Да.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — …а это результат общего хода развития России.
С.БУНТМАН — Вот очень интересно здесь, если перескочить через время и пространство, университетскую такую… удар по университетскому миру понесла Франция в 68-м году.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — Когда, особенно в новых университетах — да и в старых тоже — старые университеты были фактически разбиты вот этим желанием не учиться, а бороться.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Сергей Александрович, вот Вы в самую точку. Вот это очень похоже. Кстати, вот, замечательный роман есть, «За стеклом».
С.БУНТМАН — Да, да, да.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — …где очень хорошо все показано. Похоже очень. Очень. Может быть… ну, как сказать, колорит времени другой. В 68-м — там больше, по-моему, игры, баловства, озорства… А может быть, так кажется, потому что кончилось, в общем-то, ну, почти ничем.
С.БУНТМАН — Вы знаете, так, может быть, кажется, потому что вот весной, весной и летом 68 года. И когда это все потом продолжается, несмотря на урегулирование, там, отставки Де Голля, изменения в законах и прочее. Когда у вас в коридоре… когда преподаватель идет, и у него в коридоре — в таких, например, горячих точках, как в Нантерре, в Университете — жгут костры в коридорах… жгут костры из паркета, вокруг все это творится — это совсем не игра, это совсем не смешно. И это очень страшно, в особенности на фоне достаточно устоявшейся и не такой, как в России жизни.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Пожалуй. Тогда я иначе сформулирую: может быть, это производит менее сильное впечатление потому, что не было такого руководства, как у русского студенчества. Руководства совершенно, в общем, головорезного, готового на все. Там тоже оно, наверное, готово — там Конвент и прочее, они готовы на многое — но это же все-таки… ну, шпана — не шпана, но это… у социал-демократов центр, организация, структуры, у них четко отработанные диалоги, и они к этому времени великолепно научились манипулировать массами. В 68-м году я не вижу, как бы сказать, центра там такого.
С.БУНТМАН — Там есть несколько центров…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Несколько.
С.БУНТМАН — Есть люди, есть люди, которые этим руководят, которые потом спокойно делают себе такую маргинальную карьеру, которые признаются и идеологами и философами. Такие люди бывали даже в этой студии много лет спустя — там, 30 лет спустя бывали, бывали и здесь. Очень любопытно их наблюдать. Это становится таким… потом это становится частью цивилизации.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да, пожалуй.
С.БУНТМАН — Вот есть такое вот — вот, человек 68-го года. И вот вся у него… все его поведение до конца такое — 68 год. Это такой стиль одежды, стиль поведения, стиль жизни…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да, да, да конечно, шестидесятник, совершенно верно.
С.БУНТМАН — Вот это вот сразу вписывается в цивилизацию. В России это был разлом цивилизации, причем той ее части, которая самая хрупкая, оказывается.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да, наверное. С этого все и пошло.
С.БУНТМАН — Вот в этом печаль, и тут Трубецкой не идеалист, Марку можно ответить.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Не идеалист. Это человек, который отчаянно пытается скрепить то, что не скрепляется, который самого себя готов в качестве нитки использовать, которая сошьет — а не получается.
С.БУНТМАН — Еще один вопрос: вот когда… мы и в прошлой передаче говорили, что необходимо что-то делать — там, это вечное «дело надо делать, господа» — что-то делать на конкретном своем участке, что-то делать. Ну вот у Трубецкого целый Университет.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Целый Университет.
С.БУНТМАН — У него проект, у него есть возможность и, там, «Временные правила», возможность автономии — возможность что-то сделать. И он повисает в воздухе. Именно в этот момент.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — Потому что не с кем делать. Это не воспринимают.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Не с кем. Не с кем. Есть у него свой кружок, есть несколько десятков человек, которые готовы за него умереть, но на фоне всей России, на фоне всего студенчества, которое в массе своей против него, это, конечно, не сила. Это еще больше подчеркивает трагизм ситуации. Ребята эти оставили очень трогательные записки, Анисимов особенно, правая рука Трубецкого. И видно, что для них это было… его смерть была чем-то вроде… ну, своего собственного самоубийства, что ли. Т.е. они умирали вместе с ним. Все-таки было… он был человеком, который вокруг себя их объединил, и тем, кто способен был его понять, открывались горизонты определенные. И все это держалось на нем. Он умер, и просвет, как бы сказать, закрылся. Это производит очень такое впечатление трагическое, конечно. И причем тут еще как… дело не только в его смерти: он умер — слово разительно не подходит — но он и на Глазова произвел очень сильное впечатление, на министра просвещения. Тот его оставил обсуждать новый устав Университетов, он на всех чиновников, опять-таки, произвел впечатление, как они писали, простотой, ясностью мысли и искренностью очень сильное впечатление. И вдруг его речь стала сбиваться. Последнее, что он сделал — это тоже очень характерно — он вытащил пачку прошений студенческих, подал Глазову и сказал: «Удовлетворите их, они будут довольны, они успокоятся» и упал. Инсульт. Причем Блюменау, доктор, профессор, который делал вскрытие — 43 года было князю — он писал о том — там 120, по-моему, граммов, сгустков крови засохшейся — что в этом возрасте такой инсульт возможен только от страшного перенапряжения. Но и это еще не все — еще были похороны.
С.БУНТМАН — Здесь вопрос нам задает Александр Владимирович: «Университетская молодежь есть индикатор общего состояния социума. Они скрыто выражают то, что не могут выразить пожилые тюфяки на матрасах. За это их и недолюбливают». Да, с одной стороны.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — С одной.
С.БУНТМАН — С одной стороны. Но с другой стороны, эта университетская молодежь — это и в том индикатор общего состояния социума, в том, что станет ли она профессиональными и преобразователями, и силами…и силой той, которая сможет каким-то образом выстраивать страну, потому что ведь и, наверное, и начальство и чиновничество тоже хотят, чтобы страну выстраивали…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Конечно, если так разобраться-то. И у нас к ним, между тем, несмотря на эту массу претензий… те же самые претензии можно предъявить и к молодежи, в конце концов. А тут ведь еще одна черта, но это, наверное, тема для особой передачи — русская молодежь 10-х годов открыта радикализму, как, наверное, никакая другая в Европе тогда. Это связано с появлением новой общности — разночинной интеллигенции. Ну, вот это — чем радикальнее, тем лучше, чем круче будешь ломать устоявшееся — со времен нигилизма — тем лучше будет — это часто приводило к тому, что за разломом скрывался позитив.
С.БУНТМАН — Сейчас мы прервемся на 5 минут, и послушаем новости, а потом продолжим программу «Не так!». Андрей Левандовский, и мы говорим о трагедии князя Трубецкого и о такой, конечно, вещи поразительной, как университет, как студенчество, и как каждый раз возобновляющееся или не возобновляющееся будущее страны, и в чем оно каждый раз состоит. Через пять минут продолжаем.
НОВОСТИ
С.БУНТМАН — Ну что же, у нас есть вопросы — 974-22-22, для абонента «Эхо Москвы». Один вопрос — не совсем понятно возмущение Сергея, но «Если вы упоминаете «Московский еженедельник» 5-6 года, там печаталось все… там все ясно изложено, удивлен, что Вы это не упоминаете». Зато упоминается многое другое.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Ну конечно! Мало ли… А что ясно изложено?
С.БУНТМАН — Да я не знаю, что именно ясно изложено. Сергей, простите, но Вы не очень ясно изложили свой вопрос. Николай нам пишет: «Студенчеству просто по своей природе положено протестовать против общества сытых свиней. Другое дело, что не из одних ли сытых свиней состоит общество, и как не стать сытой свиньей потом самому — если будешь заниматься одними только протестами».
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Вы знаете, у меня, вот, просто ощущение какое: студенческий протест, как правило — ну, если проводить аналогии с реакцией организма на что-то — это эмоциональный всплеск. Но невозможно же исходить только из эмоционального всплеска. Потом, надо же понять, почему тебя так это задело, и как жить дальше. Этим эмоциональным всплеском в России сплошь и рядом пользуются недобросовестные люди. Или добросовестные со своей точки зрения, которые используют молодежь как средство. Это сплошь и рядом.
С.БУНТМАН — Причем сверху донизу и справа налево.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Само собой. Справа удавалось хуже, потому что студенчество оппозиционно в России по своей природе — власть слишком долго давила на него — а слева запросто.
С.БУНТМАН — Есть еще такая вещь: вот эта нелюбовь к позитивным знаниям.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Есть.
С.БУНТМАН — И вот это гораздо страшнее. Вот, хотя, Наталья здесь пишет, и справедливо, конечно: «Слушая Левандовского, думаешь, что кроме гуманитариев вокруг Трубецкого и радикальной молодежи и нового студенчества в России не существовало. Откуда же взялись отменные инженеры, правоведы, естественники? Да и гуманитарии тоже» — Наталья, но…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Прошу меня извинить, я сам гуманитарий, поэтому говорю о том, что мне ближе, но я же хорошо представляю — не я один, это само собой разумеется — совершенно потрясающие естественники, Минсбир, биолог — ну просто от Бога — Лебедев, физик, из ряда вон выходящий, медики — в Европе таких мало было. Все это да, но, понимаете, тут главная-то идея какая? Об этом много писали в разгар революции, после — по идее, эти люди должны были бы быть не одиночками — а одиночки — за ними должны были идти десятки, сотни. Т.е. эти люди, по идее, должны были бы изменить Россию к лучшему. А им это не удалось. Это… на мой взгляд, это яркие вспышки, который, может быть, тем более яркие, что вокруг сумрачно чрезвычайно. Революция — это ведь действительно, в значительной степени, результат того, что называется некультурностью. Вот в той форме, в которой у нас произошла — да и большинство революций тоже. А некультурность — это результат отсутствия позитива в значительной степени.
С.БУНТМАН — Еще одна такая вещь — какое-то… вот все события — и смерть Трубецкого, и вот такое ужесточение Университета невольное, и с ужасом, и со смертью, и с трагедией… А между двумя революциями что собой представлял Университет? Вот, кого он сумел… как он сумел или не сумел воспитать, каков был контекст, как выпустились, скажем, в революцию и мимо нее? Вторую имею в виду.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Вы знаете, у меня такое ощущение, что… оно личное, наверное — я университетской историей занимался, но здесь, естественно, у меня самого эмоциональный фон достаточно сильный, поскольку это то, в чем я живу всю свою жизнь. У меня такое впечатление, что Университет в 5-м году как бы надорвался. Надорвался, заметно. Ну, во-первых, кончилось все погромом в конце концов, которого так боялся Трубецкой — из Манежа началась стрельба, было много погибших. Вот. А потом в 11 году исход прогрессивной профессуры, так называемой, в министерство Касоева. И студенчество не то, чтобы успокаивается, а вот нет этой… даже со стороны мне, например, неприятно — нет этой яркости, выразительности и последовательности. В сущности, Университет отходит на задний план между двумя революциями. Он… при Столыпине его не видно, не слышно особенно. Ну, а в Февральскую революцию закрутило всех настолько, что студенческую тужурку там от фартука мастерового, от солдатской шинели там… они терялись, конечно, в этой общей массе.
С.БУНТМАН — Потребовалось потом около 20 лет для того, чтобы пройти и сочетать не сочетаемое, что получилось при советской власти, может быть.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — Необычные требования, необычайно установленных форм общественности — вот такое вот… общественной жизни и необходимость получения, но… знаний, которые отмериваются очень и очень дозировано.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Сложнейший и интереснейший процесс, кстати, почти не изученный. Потому что долгое время здесь были клише. Сейчас материал начинает подниматься — у меня вон тоже ребята кое-чего пишут по этому поводу. Но это чрезвычайно благодарная почва для исследования, потому что действительно, сочетание не сочетаемого практически. Университет ведь… ну, вот при Сталине особенно, в последние годы его правления, университетский преподаватель — это привилегированная фигура. Помню, отец рассказывал — он у меня был доцент — как он ухаживал за моей матушкой, какое впечатление произвел на ее родителей, сообщив им, что он доцент. Сейчас этим никого не удивишь: доцент, инженер — это пария не пария, но вроде того… Т.е. конечно, власть Университет держала в руках и прикармливала. Прикармливала, держала в руках. Что получилось в результате? Это ведь сложно, очень сложный вопрос. В Университете все-таки всегда было свободнее, по-моему… вот, смежные сосуды: в Университете всегда было посвободнее, чем вокруг. Там всегда была особая атмосфера. Даже в самые тяжелые годы.
С.БУНТМАН — С большими потерями бывали …
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — С большими потерями, согласен.
С.БУНТМАН — …, целыми кусками вырывали и студентов, и преподавателей…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — И опять же, приходилось такое, в полуподполье, подполье такое… полу конформистское подполье уходить. Такой, с одной стороны, по мелочам… но вот меня, в свое время, поразили такие вот вещи: несмотря ни на что, например, в Ленинградском Университете преподавал Гревс.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да, Гревс.
С.БУНТМАН — Да.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Совершенно верно.
С.БУНТМАН — И преподавал прямо от 17 до 41 года, когда, вот, он и умер. С другой стороны, я тут взял… пару лет назад я читал машинописные замечания Сергея Даниловича Сказкина к диплому моей мамы, почитал.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Она у Сказкина училась?
С.БУНТМАН — Да, да, да, она училась у Сказкина. Это поразительная вещь совершенно, при том, что там есть такие защитно-иронические, там «Леля, вы написали слово «бог» с большой буквы» и дальше такое подмигивание: «Какая неосторожность!» было.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — А отец рассказывал — вот, могу дополнить Ваше воспоминание…
С.БУНТМАН — Да.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Он тоже эту кафедру кончал как раз. Профессор Косминский, во всех отношениях достойный человек, но в системе — академик Косминский — начинает говорить должные вещи, а профессор Грацианский, человек вне системы, вслух, смотря в сторону, брезгливо, громко произносит: «Ну, опять закукарекал». Это 30-е годы.
С.БУНТМАН — 30-е, да? Это 30-е…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Где еще это могло быть сказано?
С.БУНТМАН — Вот Арон Яковлевич Гуревич описывает сложнейшую обстановку…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да. Да.
С.БУНТМАН — …описывает в Московском Университете, на историческом факультете, и как раз в 40-е годы. Очень жестко так он описывает, но это чрезвычайно интересно.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Вы понимаете, вот, что характерно — интереснейшие, кстати, воспоминания, но в других местах, в других учебных заведениях как раз не было сложности, все было просто. Университет как раз тем характерен, что там всегда было некое противостояние — отсюда и сложность.
С.БУНТМАН — Т.е. можно сказать, что, с одной стороны, вот когда государство давит — государство стремится к упрощению, а с другой стороны, как в начале века ХХ, стремится к упрощению и, вот, политическая активность?
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Пожалуй, да.
С.БУНТМАН — И вот это два — если мы возвращаемся к трагедии Трубецкого, к ее природе — вот такие два вектора упрощенческих, которые приводят к очень печальным последствиям…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — К очень печальным… И если обратить внимание, это общероссийская трагедия. То же самое в других сферах — есть и жесткая власть, и есть радикалы, которые желают перемен немедленных во что бы то ни стало. Между ними зажаты позитивные работники, которых давят и с той, и с другой стороны. Вы знаете, вот, меня, кстати, поразило — тут мы так с Вами, пунктиром проходимся, но это естественно. Письма Короленко Луначарскому. Вот Полтаву заняли «белые» — первым делом стали истреблять интеллигенцию: земскую, врачей, учителей. Ушли «белые», пришли «красные» — первым делом стали добивать тех, кого не добили «белые». Т.е. и для тех, и для других библиотекари, учителя, так называемые культурные работники являются некой опасной силой, хотя они всего-навсего позитивно работают. Это, по-моему, чисто национальная черта. Была.
С.БУНТМАН — Я дождусь, может быть, окончания этого послания на пейджер мне — здесь есть упрек, что «Вы строите не те оппозиции, не очень хорошо знакомы с историей российской науки, видимо, напряжение между радикализмом и властью, и обществом пролегало не там, где кажется». Почему? Почему? Оно и там пролегало, наверное, все-таки — между радикализмом обществом и студенческого настроения, массы.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Но ведь то, что рассказано о Трубецком — это же не миф, не выдумка, это реальная история. И кстати, Вы знаете, еще буквально несколько слов о похоронах.
С.БУНТМАН — Да. Да, да, да.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Они меня убили совершенно, потому что накануне смерти — вот после закрытия Университета — Трубецкого, ну, буквально заплевали. «Либеральный холоп» — это обычная тема листовок. После его смерти — буквально другой день, когда его из Ленинской больницы, из Петербурга, перевозили в Москву — как минимум 50 тысяч собралось. И казалось бы, это только в пользу ситуации, потому что там кого только не было — и работники биржи, и мясники, и деятели общества по обращению евреев в православие, и рабочие — от рабочих был замечательный венок с надписью «не дожил, голубчик, до свободы». Но надо знать, что накануне социал-демократы пустили листовку, в которой призвали всех своих сторонников идти провожать Трубецкого, использовать эту ситуацию в целях политической борьбы. То же самое в Москве — там 100 тысяч. Под красными знаменами, с пением «Марсельезы»… Совершенно чужды Трубецкому — и совет, и песня. Вот, т.е. человек, который стремился к миру, был использован во имя разжигания революция. Для меня, знаете, знаковым является вот такое сообщение из Зугдиди — Кутаисской губернии. Значит, рабочие заняли церковь, потребовали, чтобы по князю Трубецкому отслужили панихиду, после этого с лозунгом «Да здравствует республиканское правление!» пошли демонстрации. Т.е. такая каша, в общем.
С.БУНТМАН — Ну, это очень много говорит вообще об обстановке в стране.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Обстановка, по идее, страшная. Вот этот Анисимов, любимый ученик Трубецкого, он пишет: «Стоял, слушал, плакал и думал: он им нужен мертвым. Если бы он сейчас ожил чудом, все были бы разочарованы. Потому что это повод для спекуляции революционного характера». Вот характерно, действительно. По-моему, знаете, как осколки зеркало, вся ситуация отражается как нельзя лучше. И она безнадежная для того времени, по-моему.
С.БУНТМАН — Еще одна характерная особенность — меня всегда очень тревожило в воспоминаниях и… как в устных каких-то и разговорах, вот такой вот фон воспоминания о преподавателях очень часто, о великих профессорах — достаточно мало разговора о том, что преподавали по существу. Очень много разговоров о яркости…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — …о доступности, бывало, там, о художественности представления. И вот это странный такой вот эстетизм просто в воспоминаниях — а что, собственно… а вот что, собственно, говорил человек? Это достаточно редко появляется в воспоминаниях о великих преподавателях.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Сергей Александрович, а если даже вопрос шире поставить: много ли у нас произведений, художественных, скажем, или тех же воспоминаний, посвященных описанию какой-нибудь конкретной деятельности? У нас, там, старушку топором, проблемы… проклятые вопросы на первом плане. Я вот знаю «Записки юного врача» Булгакова — вот с ходу могу назвать. Совершенно потрясающая вещь о том, как человек реально лечил. А что еще, если так, напрячься? Ну, Веру Павловну я не беру, из «Что делать?», потому что, ясное дело, что речь не о реальной деятельности, а о фантастической. Об этом многие ведь писали, не только авторы «Вех» — у них много там грехов тоже, но в этом плане они писали правильно.
С.БУНТМАН — А вот интересно, вот вся… весь пласт вообще… скажем так, советской литературы, которая посвящена всевозможному… конкретной деятельности: от «Поднятой целины»…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — До производственных романов…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — «Цемент», «Бруски»…
С.БУНТМАН — «Цемент», «Бруски», вот…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — «Сталь и сплав», был у Попова такой роман…
С.БУНТМАН — Да, все 20-е годы, да. Вот это что? Или на самом деле, если пользоваться термином Альфреда Хичкока, все производство там — это только МакГаффин, только предлог для того, чтобы выяснить какие-то политические или социальные отношения?
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Я не знаю, тут начинаешь субъективно подходить — «Поднятая целина» мне, например, очень много дала, даже для понимания — мне, как горожанину — для понимания реальной жизни вне города. Но «Цемент», «Бруски» — это же, конечно, все-таки, по-моему, вещи… не то, чтобы чисто заказные, но искусственные все равно, сделанные под эпоху.
С.БУНТМАН — И очень обидно, конечно — это абсолютно другая тема, которой мы и занимались, и будем заниматься — обидно, когда из, вот, таких вот вещей как книги или кинематограф того времени мы делаем выводы, что такова и была жизнь…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Конечно. Конечно.
С.БУНТМАН — …таково и было производство. Там есть приметы времени, но это тоже источник для изучения, о чем мы говорили.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Конечно. Эта тема страшно интересна, потому что не позволяет вовремя сориентироваться, но при условии, что ты не принимаешь все это за чистую монету. Они сами производные от времени.
С.БУНТМАН — Там есть какие-то естественные детали, без которых нельзя обойтись, которые приходят сами собой.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да, и кроме того, сами фильмы поставлены для чего-то — это тоже характеристика времени, несомненно.
С.БУНТМАН — Да, с какой-то целью.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — С какой-то целью.
С.БУНТМАН — Ну все-таки, вот трагедия, и об университетском образовании — в России все-таки университетское образование только островами может занимать свое место между профессиональными школами и школами, которые готовят, скажем так, государственных чиновников разного толка.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — Это два полюса. Получение массы позитивных знаний, возможность использовать эти позитивные знания, с пользой использовать. Причем знания от, скажем, античной филологии до Бог знает чего. Все равно это их практическое, позитивное использование. В это что, веры нет до сих пор? Это что, тоже абстрактное получение знаний без особой пользы и только для академического применения?
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Университет — это…
С.БУНТМАН — В чем? Не могу нащупать эту университетскую проблему мысленно.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Вы знаете, ну, это вот такое есть расхожее понятие, что университет не столько дает специальность, сколько формирует человека. Это звучит, может, немножко выспренно, но в этом что-то есть. Античная филология может многое дать для выработки определенной точки зрения во взгляде на окружающий мир. Как бы сказать, специальное исследование какого-то вопроса с целью потом практически, так сказать, действовать в этом направлении, этого не дает. Но это не скажу «дрессировка», никого обижать, конечно, не хочу, но это понятно, что профессионалы очень нужны, но если мир будет состоять из одних только профессионалов… У нас уж больно модно это слово стало — ну вот, энергетика у нас профессионалы высокого уровня, менеджеры разные и прочее, политики у нас становятся профессионалами… Университетская… Вот Трубецкой для меня, так же, как Грановский, фигура определяющая в каком плане — это люди, пытающиеся рассмотреть судьбу России с позиций мироздания. Судьбу Университета с позиций России. Т.е. люди, пытающиеся… люди, пытающиеся выработать универсальное мировоззрение. Ведь мы действительно от древних греков стали отставать очень заметно — у них эти установки были выражены уже тогда, и они совершенно справедливы.
С.БУНТМАН — Ну вот, можно понять, конечно, возмущение студенческой общественности, когда, вот, страна дохнет и пухнет, а они едут осматривать греческое побережье, делать из этого какие-то выводы.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Вот вместо этого, конечно, нужно идти… А куда идти?
С.БУНТМАН — А куда идти? А что делать?
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Что делать?
С.БУНТМАН — Сделать что-нибудь полезное.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Тут подходы такие, что эти люди поездят по Греции, потом прочтут много умных книг, потом, наконец, ощутят болевые точки — а их можно по-настоящему понять, глубоко, не на уровне «вот это отменить и заменить этим-то», а на уровне мировоззрения цельного — и начнут работать на благо России.
С.БУНТМАН — Такой пример, абсолютно действенный, на мой взгляд, и подходов, но который опять не слушается. Они существуют и существовали в недавней и в современной России. Вот в связи с ответственностью государств и народов, а также опасностями, которые могут возникать, если ничего не помнить, много чего пришлось переворачивать, всевозможных текстов, и с удовольствием… вот, поразительный текст Сергея Сергеевича Аверинцева — вот, простите, классический филолог. Это лекция, прочитанная в Вене в 2001 году о тоталитаризме и выходе из тоталитаризма и о свободе. Несколько пунктов — тезисы лекции. Текст поразительный, потрясающий и настолько полезный, как мне кажется!
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Сергей Александрович, Вы знаете… можно, я еще одно воспоминание?
С.БУНТМАН — Да.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Я хорошо помню, на первом курсе, совершенно желтоперым еще — даже студентом трудно было себя называть — Аверинцев тогда начал читать семинар для 5-6 человек, который превратился в действо некое. Была забита огромная аудитория приходящими вольнослушателями. Я попал на одной лекции — она была о пифагорейцах — ничего не понял почти за неграмотностью, но было невероятно интересно. Он читал это без всяких, как бы сказать… ну, как Грановский в свое время — чисто по науке. Вот. Но было очевидно, что это настоящая, высокая наука, которая ко многому обязывает. И мало, чего поняв, я очень захотел понять. Понимаете? Стало ясно, что это серьезное деланье, к которому нужно стремиться. Ну, и я думаю, что я после этой лекции стал немножко другим, и наверное, стал лучше. Вот. Я не уверен, что какой-то спецсеминар на конкретную тему дал бы мне… Я уверен, что он не дал бы мне больше, чем эта случайная лекция. Поэтому, конечно, люди такого уровня, они обогревают не космос, а нас.
С.БУНТМАН — Вот важный вопрос здесь ставит Елена — последнее, что мы скажем: «Радикальные студенты, вот которые так не нравятся Бунтману…»
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да.
С.БУНТМАН — Ну, понятно. «…смотрели шире и мыслили глубже. После нескольких лет учебы их ждала жизнь со всеми противоречиями и трагизмом николаевской России, неграмотная жизнь…» Вот именно… знаете, вот здесь в радикализме, наверное, есть огромный такой вот зазор — с одной стороны, взгляд на вообще, и постоянное закапывание в частности.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Почему глубже? Почему они мыслили глубже?
С.БУНТМАН — Не знаю, почему глубже. Потому что все время повторяли о том…
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Почему лозунг, что нужно не учиться, а использовать Университет как арену политической борьбы, почему это означает смотреть глубже, с позиций голодной России?
С.БУНТМАН — Ну да. Когда у тебя нет отвертки, ты стамеской заворачиваешь шуруп.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Стамеской, да.
С.БУНТМАН — Заворачивается же, как мне когда-то ответил одни студент-физик, чем меня поразил.
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Да проще кувалдой.
С.БУНТМАН — Забить и все. Вот. Еще один, вот, этюд у нас сегодня был на тему… и действительно, развитие России в трагедии князя Трубецкого — я думаю, что мы с вами многое увидели и обо многом можем подумать. Программа «Не так!», совместная с журналом «Знание — сила», Андрей Левандовский, спасибо большое!
А.ЛЕВАНДОВСКИЙ — Большое Вам спасибо!