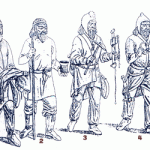ВСЕЛЕНСКИЙ ХАРАКТЕР РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ВСЕЛЕНСКИЙ ХАРАКТЕР РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, понимание коренным русским человеком особой миссии Русского государства в борьбе со вселенским злом. Внутренняя спаянность в своем коллективном обособлении от всего духовно чужого естественно и необходимо рождала своеобразную вселенскость русского сознания. То уже был «мир» в точном его смысле — вселенной. На русскую почву как бы перемещается первохристианский «Круг Земной», сочетая нашу внутреннюю духовную взаимную родственность с открытостью душ для всех вообще «верных», кто бы и где бы они ни были. Тем начинал осуществлять в ходе истории русский народ свое великое послушание — исподволь к нему готовясь, созревая для него, чтоб затем принять на себя, в предустановленный Богом момент, несказанно высокое бремя, церковно-вселенское: стать Православным Царством — Третьим Римом.
Сознание вселенскости присуще русскому человеку прежде всего в смысле пространственном. Русский человек не ощущал границ. Русская колонизация имела стихийный характер, сливаясь с миссионерством, тоже стихийным, — не в образе нарочитой проповеди, а в образе «бытового исповедничества», неотрывного от храма. Никакие «естественные границы», будь то даже океан, не могли парализовать этого устремления. Миссионерство самодовлеющее, напротив того, чуждо русской душе. Кому-то куда-то отправляться в чужую страну, чтобы ее приобщить к христианству? Это и в мысль никому не приходило. Своим же сделать окружающий мир, став церковной «красильней» (по выражению св. Иоанна Златоуста) для всего своего соседства, — это происходило с естественностью органического процесса.
С пространственной вселенскостью сливалась вселенскость этнографическая. Любую кровь принимала в себя Россия, ею обогащаясь, — и это даже в условиях, когда могло казаться, что происходит, напротив, овладение России чужим элементом: вспомним варягов, которые потонули в ней без остатка. И этот процесс ассимиляции носил еще в большей мере характер чего-то органического — не насильственного.
Наиболее яркое проявление этой органичности, быть может, сказалось в ассимиляции людей, казалось бы, совершенно лишенных пластичности, — западных гостей, гордых своей культурой, ею проникнутых и готовых на вас смотреть сверху вниз. Чудодейственно перерабатывала даже их наша культура своей мягкой задушевностью, открывающей в формах русского «уюта» путь и к царству духовному, западной культуре уже чуждому. Не свойственно было русскому человеку требовать от кого-либо приобщения к себе. Ласка как «человеку» оказывалась именно «чужому». Но и это располагало «чужого» доброй волей становиться «своим», никак этого часто не оформляя. И так «чужое» становилось органически «своим», внося в нашу русскость новые и новые элементы.
Русская вселенскость не носила характера узконационального. Русские были вскормлены историей в тесном братском общении с другими народами общей с нами веры — не только славянскими, близкими по крови. Слово «Росия» (через одно «с») вошло в обиход, обозначая русское отечество как митрополичий округ Церкви Константинопольской, Греческой. Вселенную, как родную, русский человек воспринимал только Православную. Не русскость в смысле принадлежности к своему народу составляла ядро личности русского человека, а русскость в смысле принадлежности к Христовой Вере истинной, неповрежденной, которая во Христе братьями воспринимает всех православных. Зато других, в их религиозной различности, русскость почти не видит! Механически воспринимает русский человек инославное или иноверное окружение. Он претерпевает его, но живет он не им. Показательно в этом смысле содержание знаменитых записок о своем пребывании в Индии Афанасьева и сама его судьба. Вся коммерческая предприимчивость Афанасьева, пусть и удачливая, вянет пред лицом тоски по Церкви. И он, оставшись ей верен, весь свой предпринимательский гений обращает на возвращение домой — чтобы отдать Богу душу, едва прикоснувшись к Русской земле. А поток полонянников, ряд стран проходящих как пустыню, с внутренним взором, вперенным в Русскую землю. А донесения московских послов, ничего не находящих достойного внимания, кроме того редкого, на чем лежала явная печать Православия. Примечательно при этом, в какой мере иную окраску имеет в очах русского человека Запад и Восток: настороженно-опаслива отчужденность от первого и покровительственно-мягко претерпевание второго.
Все эти душевные движения и их оттенки поймем мы только, освоив присущую русскости православную вселенскость. Пусть часть мира еще не знает Христа истинного — Христос остается Господином вселенной, которая подлинное бытие имеет только в Нем. Земной Круг — не астрономическое, не географическое понятие, а всецело эсхатологическое: это — мир, приявший Христа и тем обретающий жизнь вечную. Это — Церковь. Это — Тело Христово. Если кто ушел от Христа или Его не принял, к нему нет вражды, но с ним нет общего языка. Есть, однако, радикальная разница: покинул ли кто уже приятую Истину или еще не познал Ее? Ко вторым — отверсты объятия. Это ведь поле апостольства, предуказанное Христом. Тут соблазна в самом факте общения нет. Напротив, теснейшее общение, во имя привлечения в объятия Церкви, диктуется. Этого не может быть в отношении сознательно ушедших от полноты им открытой и ими приятой Истины, которые в своем сознательном отступлении от Истины своей задачей ставят и нас сделать соучастниками своего грехопадения.
Так слагается стройное, всех объединяющее сознание вселенскости, каждому русскому присущее, впитываемое с молоком матери. Мы выше говорили о «мире», об «уюте». Это — проявления нашего быта, отправляющегося от первичной ячейки земного бытия, — от семьи. Но потенциально русскость обнимает все и вся, и это без утраты исходной теплоты домашнего очага — этих преемственно восстанавливаемых первичных ясель христианской вселенной.
Храм являет зримо эту благодатную русскость. Храм не ограничен стенами — он готов расшириться до любых пределов. В лице «батюшки» он — участник жизни каждой семьи, он участник всех сколько-нибудь значительных проявлений и общественной жизни. Наглядно может расти «вселенскость». Крестный ход! Если он совершается вокруг храма, нередко знаменуется он нарочитым проявлением вселенскости: на четыре стороны света совершается кропление святой водой. Это — символика. Но если, напр., крестный ход имеет целью посещение святыни, он может являть конкретную, порою изумительную широту территориального охвата. К определенным центрам, в определенные дни совершались крестными ходами грандиозные паломничества, проходившие чуть не пол-России и поглощавшие церковные массы проходимых селений. Встреча возникала в месте паломничества с десятками таких же, с других концов России пришедших крестных ходов. То бывало — разительное проявление «мира», которое в любой момент своего развертывания способно было создавать нежнейшую ласку «уюта». Достигало же оно вершины в ночевках под открытым небом, у костров, если не было на пути селения, способного принять всех паломников в свой домашний уют. А когда достигнут центр паломничества — там уж эта совместность во Христе жития-пребывания под открытым небом получала законченнейшую форму, сочетая возросшую массовость с лишь возрастающей силой уюта.
А индивидуальное паломничество, привычно пересекавшее всю грандиозную площадь России для поклонения святыне, а не так уж редко встречали человека, всего отдавшегося подвигу постоянного перемещения от одной святыни к другой! Так паломничество становилось назначением жизни. И тут неизбежны бывали узлы промежуточные, как и русла, пролагаемые веками, где скопления людей бывали повседневны. И так сразу же рождался «мир», окутанный «уютом»! Об этом мы имеем свидетельства не только своих, но и чужеземцев, иногда буквально в энтузиастов превращавшихся от этой их охватывавшей и пленявшей атмосферы.
Вершины, естественно, вселенскость обретала, когда центром ее становился центр Вселенной: Святая земля. Массовый характер могли получить паломничества туда только в сравнительно недавние времена. Долгие века то был удел одиночек, принимавших на себя подвиг паломничества в отдаленный край. Полны опасных приключений были такие паломничества — и совершались они от лица всей России, а в частности непосредственно от лица того множества людей, которых случайно, по дороге, а нередко и нарочито, загодя, посещал паломник. Как много нам говорит давнее описание такого путешествия — Хождение в Святую землю игумена Даниила. Тогда Россия ничем не была объединена, кроме как церковным сознанием, но жива Русская земля в сознании «белоруса» Даниила: от ее лица возжигает он у Гроба Господня лампаду!
Вселенскость эту можно именовать и соборностью, поскольку она осуществляется в храме, который в своей «русскости» являл нечто особенное даже для православного наблюдателя — не русского. Это мы видим на описании Павлом Алеппским своего посещения России при царе Алексее Михайловиче: он был потрясен храмовыми впечатлениями. Пред ним был церковный народ, весь — до самого юного возраста — истово молящийся, не знающий усталости и действительно образующий некое святое целое. Так оставалось и в более поздние времена. Рассказывал один из знатоков русского церковного пения, Божией милостью регент, И. П. Райский, воспоминание своего детства. Отец его был священником где-то близ Урала. Храм, где он настоятельствовал, строился или перестраивался, но вышло так, что к Пасхе были одни стены — ни клироса, ни иконостаса. Иконостас временный устроили, но за отсутствием клиросов народ не был отделен от хора. И что же? Весь народ стал хором! Всю пасхальную службу пел весь храм — потрясающее впечатление на всю жизнь осталось у Райского.
Русский хор — вообще нечто необычайное. Знаменита, с полным правом на то, своими хорами Германия. Но это продукт культуры, требующий выучки и предполагающий и прохождение известной школы, и наличие опытного руководителя. Иначе в России. Стоит собраться любой группе русских людей — хор готов! Все знают множество песен. Нашелся запевала — и понеслась к небу русская песня, ни с чем не сравнимая и способная выражать самые разные оттенки человеческих переживаний. О своеобразном «хоровом» начале принято говорить применительно к русскому народу. Но ведь это все то же начало «русскости», обнаруживающее себя в любом масштабе бытового сближения — самого разного, от волжских бурлаков до заупокойных плакальщиц. То, что русский человек в песне способен давать выражение своим чувствам, свидетельствует об особой одаренности музыкальной русского народа. Но то, что песнь естественно, органически, стихийно становилась хором — без регента, без предварительных «спевок» и даже без предварительного знакомства друг с другом, совершенно экспромтом, — это нечто большее и иное. Это — свидетельство некоей общности сознания — именно той, которая, являя собой русский «мир» и составляя часть русского «уюта», покрывается именно той своеобразной русской вселенскостью-соборностью, о которой мы сейчас говорим.
Знала Россия извращение этого своего великого дара. Поскольку то была шутка — не охуляла она его. Но поскольку превращалась шутка в самостоятельный ряд песни — не только снижение то означало, но и падение. Частушка! Для песни характерна ответственность, серьезность, нравственная осмысленность. Даже в веселии это сказывалось, и в смысле места и времени, и в содержании, и в сознании того, что это есть отдых, передышка, а не нечто заполняющее жизнь. Частушка — это уже озорство. Не то озорство, которое могло находить себе выражение в песнях разбойных, удалых, где являло себя уже некое выхождение из рамок общества, из «мира» и где не было уже и намека на «уют», как не было и оттенка «вселенскости». Частушка, становясь принадлежностью бытовой жизни, свидетельствовала о ее вырождении. «Гармошка», «частушка», это уже — не подлинная, исконная, истовая Россия в ее целостности исторической. Это — упадочность…
Мы очень далеко в нашем обычном отношении к действительности отошли от сознания самого существа Православного Царства. Это ведь не «образ правления»! Это — увенчание совершенно особого умоначертания, ставшего нашим национальным достоянием. Православное Царство есть увенчание нашей русскости.
Подчеркивая христианский характер русского народа, К. С. Аксаков говорит: «Чтобы в этом увериться, стоит только припомнить русскую историю. Русские одерживают невероятную победу и, говоря о ней без всякой похвалы или гордости, приписывают ее помощи Божией: не чувство победного триумфа одушевляет их, а чувство благодарности к Богу. Налетают татары или поляки — народ говорит: это за грехи наши, мы прогневали Господа — кается и выходит на неизбежную брань. Побеждены татары, взята Казань, разбиты рыцари, освобождена Москва, русский народ не ставит памятников, ни делу, ни человеку, а строит церкви и учреждает крестные ходы… История русского народа есть единственная во всем мире история народа христианского не только по исповеданию, но по жизни своей, по крайней мере по стремлению своей жизни…»
А вот как В. О. Ключевский изображает воззрения летописца: «Два мира противостоят и борются друг с другом… Борцами являются ангелы и бесы… Борьба обоих миров идет из-за человека. Когда, к какому концу направляется житейский водоворот, производимый борьбой, и как в нем держаться человеку — вот главный предмет внимания летописца. Жизнь дает человеку указания, предостерегающие и вразумляющие человека; надобно только уметь замечать и понимать их… Все провозвещает эти пути, не только исторические, но и физические явления… У летописца целое учение о знамениях небесных и земных… Все в руках Провидения служит воспитательным средством для человека…»
Воззрения летописцев не есть что-то отдельное от русского народа: их устами говорила народная совесть. Бога носил, действительно, в своих сердцах русский народ. Падал — вставал. Бунтовал — смирялся. «Великая революция» есть завершительный бунт, всю полноту изначального устремления к Богу обративший в столь же исчерпывающее противобожие. Но при всех условиях и в этом своем антибожеском максимализме русский человек продолжает всецело жить проблемой Бога. Западнический «плюрализм» органически чужд русскому человеку. Весь, целиком, должен быть обращен русский человек к единому центру жизни. Поэтому, поскольку русский человек, каким его сделала История, т. е. человек, весь устремленный к Богу, остается все же человеком во всей его земной природе, — не могло его мировоззрение исчерпываться той моральной концепцией, которая звучит в словах Ключевского. Не мог он даже ограничиться тем общим христианским духом, о котором так убедительно говорил К. Аксаков. Ведь поскольку человек не отказался совершенно от мира, т. е. не стал монахом, его жизнь земная должна иметь какой-то смысл, как таковая. Русский человек должен иметь в своей жизни какие-то конкретные земные задания, осмысливающие его земное бытие. Вышеприведенные суждения наших историков-мыслителей истинны в том отношении, что обрисовывают ту особую духовную качественность русского народа, которая определяла его исторический путь. Но надо договорить до конца то, что подразумевается под этими суждениями, надо установить: чем же стал русский народ, окрыленный таким мировоззрением? Ведь, будучи так настроен, русский человек в своем земном бытии, а не только в премирной будущности, должен был ощутить себя орудием Промысла Божия. Другими словами, в этой своей духовной качественности русский человек готов был стать орудием осуществления некоего вселенского задания — земного! — которое способно было бы осмыслить место русского народа в мире. Этому запросу и отвечало — Православное Русское Царство как земная опора воинствующей Церкви Христовой.
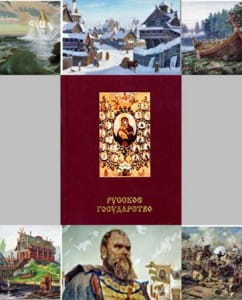
Свод энциклопедических сведений о русском государственном порядке, православной монархии, самодержавном Российском царстве.
Вся русская история поначалу есть приготовление русского народа к выполнению этой высокой миссии, только чуемой русским сердцем. С падением же Византии уже конкретно явила себя Русь в образе Православного Царства, принимающего на себя высокое назначение, присущее былой Византии. Россия не притязала на такое величие: и в мыслях не было у русских соревноваться с Византией. Силой вещей приведена была Россия к осознанию себя в этом величии, на нее ниспадшем. Она и приняла его — как послушание. Ключевский так определял процесс уразумения Россией высокой миссии, в конечном счете на нее падшей:
«Первоначально это мировоззрение витало за пределами отечества, игнорируя его, было вполне приковано к библейскому и византийскому Востоку, его судьбами питалась русская мысль, там сосредоточивались все ее идеалы, которыми она вдохновлялась. Потом она стала понемногу обращаться и к Русской земле, постепенно вбирая ее в свой кругозор, и течение ее жизни тонкой, но очень заметной струйкой вводила в широкий поток мировых судеб и церковно-вселенских событий. Когда же этот поток с падением Византии пресекся, русская струя осталась одинокой, ее продолжение из исторического притока обратилось в целый исторический бассейн. Вселенский свет, озарявший Русскую землю отблесками, теперь переместился в пределы последней, и Русская земля осталась единственной исторической преемницей Византии».
Никакое человеческое разумение, никакие исторические изыскания, никакое социологическое исследование, никакое историософское размышление не способно вразумительно согласовать отдельные моменты русского исторического прошлого, отдельные проявления русского духа, насыщавшего русскую жизнь во всех проявлениях ее, на всем протяжении нашего исторического бытия и на всем пространстве России — с отдельными этапами выполнения промыслительного назначения русского народа. Божия рука вела русский народ и творила Русскую историю, напояя благодатью психологический состав русского человека в его святой устремленности к святой цели. Вот когда нужно нам задуматься над промыслительной окрыленностью всего нашего христианского прошлого церковнославянским языком. Можно ли представить себе что-либо более ясно обнаруживающее промыслительную заданность русскости, чем слияние русскости с богодухновенным творением свв. Кирилла и Мефодия, не для нас вызванным к жизни, но оказавшимся именно нашим исключительным достоянием? Если слово есть плоть души, то душа нашего народа оказалась облеченной в плоть церковного слова — тем сливая нашу душевность с православной духовностью. Вот она — благодать, зримо осенившая Русскую землю и обозначившая нарочитую помазанность русского народа.
Простое русское сознание, вне всяких формул и теорий, интуитивно осваивало особую призванность русского народа, коренящуюся именно в присущем каждому русскому человеку восприятии себя как послушника Божия. Напротив, сколько-нибудь квалифицированное, культурой тронутое сознание с величайшим трудом осваивает тему «Третьего Рима», будучи склонным усматривать здесь притязательность, горделивость национально-патриотических мотивов, лишь церковно окрашенных. С трудом доходит до культурно-квалифицированного сознания и другое существенное проявление русскости, органически свойственное каждому церковно-простому сознанию.
В чем проявляется конкретно-психологически вселенскость характера Русского государства и сознание избранничества русского народа? В духовно-осмысленном верноподданничестве. Русский человек жил церковью, жил храмовой жизнью. Проникала его личную, частную жизнь церковная благодать — на всем ее протяжении и во всех ее перипетиях. Но приход далеко не исчерпывал для русского человека Церковь. То была обыденность, а душа требовала перехода в иной план, духовно более высокий: монастырь, вот где возвышалась русская душа до пределов, недоступных приходу. И нормальным было для каждого русского человека иметь связь с монастырем, который своим строем как бы рождал в каждом живое представление о пусть для каждого недоступном, но живом идеале жизни. Заканчивая жизнь, русский человек, если не было на нем ответственных обязанностей, его в миру связывавших, охотно становился монахом. Не такой уж редкостью было облечение в иноческий образ и на смертном одре — что особенно было характерно для державновластвующих.
Но и этого было мало русскому человеку. Душа требовала того, чтобы и мирская жизнь была до конца церковно осмыслена. Для русского сознания не только церковная жизнь, это Небо на земле, была Божиим порядком, иерархически построенным, непогрешимым, твердым, непоколебимым в своей святости. Душа его требовала, чтобы и мирская его жизнь могла быть послушливым служением Богу — во всем многообразии человеческой жизни, в самой ее обыденности, в самой крайней ее мизинности. Во всей жизни должен быть Божий порядок, иерархически построенный — твердый, непоколебимый и носящий на себе отпечаток святости. Вопреки естественной для павшего человека устремленности к противопоставлению своего «я» Богу — а может быть, и в предварительную отмену слишком грубо готовой себя проявить такой устремленности! — русский человек загодя хотел освободиться от своей воли, находя успокоение лишь тогда, когда мог вокруг себя видеть такой порядок, который отпечаток Богоустановленности налагает на все. Мирская жизнедеятельность как всежизненное послушание, Богом благословленное, — вот идеал осуществленной русскости.
Никакое мудрование человеческое — самое наукообразное! — не расшифрует, как мы уже отмечали, вытекающей из этого существа русскости связи между направленностью воли народной и отдельными событиями, из которых оказалась соткана Русская история и в силу которых создана была Историческая Россия, если исследователь не воспользуется единственным «шифром», который раскрывает смысл этой тайнописи, являющейся неким сплошным чудом. Это и есть, как мы бегло отмечали, Русский Православный Царь как Помазанник Божий, в неразрывной связи с Церковью пребывающий, ибо одновременно и охраняющий Церковь, и Церковью окормляемый. Оставаясь Верховным Главой государственно-организованной Русскости, Царь воплощает собой Божий порядок, коим держится Вселенная. Этим и осуществляется высокое промыслительное назначение России — не только в ее целом, но и в лице каждого самого малого ее чада, поскольку человек готов самоотверженно-послушливо нести крест русскости.
Возвращаемся мы к верноподданничеству как к основе Русского исторического бытия, вне которого нет Исторической России. Это есть тот элемент русскости, который превращает Россию в Третий Рим. Тут нет места политике, как нет места никакой аналогии с явлениями монархизма, политически осмысленными. Это тот стык земли и Неба в душе русского человека, который превращает Россию в Святую Русь. И это, конечно, одинаково характерно как для сознания верноподданных, так и для сознания самого Царя, который, если психологически и не воспринимает этого — как то, напр., было особенно ярко с Екатериной II, — должен силой вещей принимать собственный облик в обращении с народом. Это именно то, что отсвет неземной отлагает на всем течении жизни, открывая легкую возможность, а в иных случаях рождая неотвратимую необходимость всенародного подъема, непреоборимого ни для какой земной силы, ибо являющегося лишь разительным обнаружением Чуда Божия, являемого Россией.
До Бога высоко, до Царя далеко. Только искаженное сознание способно в этой поговорке видеть лишь обиженную отчужденность от Царя, недоступность Царя, обособленность от Царя. Напротив того! Бог — высоко? В этом же Его сила! К Нему, в высоту, человек постоянно и устремляется в уповании получить помощь. В эту Божию высоту направлены все его, человека, помышления, как к вожделенному Отечеству Небесному… Если по вертикали ведет нас к Небу, в безбрежную высоту влечет Господь, то по горизонтали, по земле, в аналогии с Богом Небесным, стелется Царская власть, всех объединяющая во вселенском масштабе, а потому естественно и необходимо от всех далекая. Нелегко достичь Бога в Его высокости. Нелегко достичь и Царя в его далекости. Это может порою и в уныние привести. Может человек обиженно ощутить и отчужденность, и обособленность, — как от Бога, так и от Царя, в их недоступности. Но разве это упраздняет неизреченную громадность Их значения! А как же без Них? Можно ли представить себе жизнь без Бога? Можно ли представить себе жизнь и без Царя? Если на Небе единственная Сила — Господь, то на земле единственная Сила — Царь. И нет пути к Богу Небесному иного, как через Царя земного: от Бога он поставлен. Не землею он определен в своем, все земное превышающем, положении, а Небом. Личностью Царя исчерпывается земная власть. Ему можно помогать в ее осуществлении, но источником всякой земной власти является он — Царь. Возглавление им земного бытия осмысливает весь земной круг жизни. За его «хребтом» народ может спокойно нести крест жизни, в уверенности, что общая направленность жизни есть Божия направленность. Царь не только вождь — он и ходатай пред Богом. Все грешны! Не безгрешен и Царь. Но у него особое положение — настолько неизреченно высокое, что бессильны покрыть его грехи даже молитвы его народа. Народ согрешит — Царь отмолит. Царь согрешит — народ не отмолит!
Своеобразная человеческая стихия — русский народ! Она живет земным, землею, в непосредственной к ней близости, с таким осознанием ее, в ее и растительной, и животной, и атмосферической жизни, которое роднит человека с землею, делая для него понятным ее язык, — обычно земной, но иногда и небесный, поскольку им Сам Господь говорит. Жизнь русского человека наполнена этой близостью к земле в Богом благословенном труде. Он отвлекается от этого труда и от этой, роднящей его со всем в природе живым, жизни, только обращаясь к Небу, в своем общении с Церковью. Политика, общественная жизнь, наука, культура, искусство — в этой изощренности проявлений всех этих сторон жизни, которая возрождением античного мира была введена в сознание западного христианина и заняла в нем первенствующее место, — чужды русскому почвенному человеку. Он знает свое назначение на земле, которое открывается ему Церковью, и живет Церковью, как и тем отображением Ее, которое нашло себе место в том, что его окружает, живя и в его личной памяти, и в вещественном составе его жизни. То, что открыто человеку Богом, то он, если Господь умудрит его, прочтет в «книге» — этой святыне, которая лежит в красном углу вместе с иконами. Он спокоен за хребтом Царя, зная, что все и вся, в своем земном делании и в своем совместном бытии, ведомы путями Божиими, раз во главе стоит Царь. Иностранцы на Москве удивлялись, как это, когда они хотели вступать на политические темы в беседы с московитами, те отговаривались, что то не их ума дело! То Царь знает с его советниками! Рабья психология — заключали они. Рабья? Да! Рабы Божии так говорили в святой уверенности, что все в России движимо Божиим Промыслом, раз все руководимо Царем. О, как смогло быть тяжело бремя жизни земной, в ее обремененности всежизненным послушанием русскости! Невыносимо порой было оно. Бежать, бежать! Чего проще! Пространства России беспредельны. Общегосударственного полицейского надзора нет. Беги! И бежали. Но как! С собою унося не только свое «бытовое исповедничество», но и свое верноподданничество! Так возникало казачество, которое силой вещей превращалось в охрану так растущей Империи, в ее передовые выступы, в ее сторожевую службу, пока, с расширением границ, не входило оно снова в общий круг, включаясь снова в массив своеобразной русской государственности.
А Царь в его самодержавном величестве, ничем не ограниченном, кроме воли Божией? Пышность его жизни сказочна. Но эта жизнь до последней мелочи пронизана церковностью. Вот уж где «бытовое исповедничество» доведено до предела! Домашний быт Русских Царей и Русских Цариц — это своего рода концентрированный состав русской жизни в ее предстоянии Богу. Царский Дворец неотделим от храмовой жизни, в нем продолжающей свое действие и превращающей его еще в большей мере, чем всякое другое жилище русских людей, от последней хижины до боярских палат, в «домашнюю церковь». Но тут есть уже и политика, тут есть и общественная жизнь, в частности воинская, тут есть и искусство — тут все есть вообще, что только находит себе место в русской жизни, сведенное к централизованному единству в Царском Дворце, где лишь в тайниках, никому не доступных, дается некоторое место интимной жизни Царской Семьи. Поскольку она в каждодневной жизни открыто себя являет, пред нами картина благообразия почти священнодейственного — вплоть до развлечений, в строгой размеренности протекающих. Как характерен «Урядник сокольничья пути», составленный царем Алексеем Михайловичем.
Да, до такого Царя далеко! Но как он может стать близким! Он считает своим святым долгом ходить в темницы, чтобы утешать заключенных. Он готов наполнить свой дом нищими и их обслуживать, в своей пышности, смиренно поникшей перед выполнением заповеди Божией. А в торжестве всенародном, в показанный для того день, Царь смиренно поведет под уздцы ослятю, на котором будет восседать Патриарх, являя собою образ Христа… И в покаянной молитве, предшествующей Христову Воскресению, в общении с церковным народом будет Царь творить дело покаяния, чтобы потом со всем же народом встретить воскресшего Христа. Троекратное лобзание всех уравняет в этот святой Великий День…
Русский Царь — высшая на земле державная власть, которая возвышена Господом Богом до уровня, трудно до конца сознаваемого, не поддающегося уразумению, поскольку мы земными глазами смотрим на все нас окружающее, «историософски» осмысливая историю человечества. Лишь в плане церковного разумения можно понять, кто такой Царь. Лишь в слове Божием можно найти ответ на то, что такое Русское Православное Царство.
В конце времен пришел на землю Господь. Искуплено человечество. Путь спасения открыт. Наступило новозаветное время. Человечество призвано следовать Христу, тем осуществляя свое назначение — стать участником блаженной Вечности. Отбор возникает чад Божиих. Он всячески облегчен. Сатана связан. Благословен Богом порядок жизни, в котором в симфоническую связь поставлено «Божие» и «Кесарево». Особое назначение получает Кесарь: пока он в силе, связан сатана, способный соблазнять, но не имеющий силы властвовать. Тем самым закрыт путь антихристу. Есть Удерживающий! Спокойно течет История новозаветная. Достаточно, однако, Удерживающему перестать существовать — это будет означать, что История кончилась и что началось отступление (апостасия). То начало конца, знамением наступления которого будет явление антихриста.
Только в свете этих Божественных откровений может быть уяснена вселенская природа Русского Православного Царства. «Третий Рим» — не теория мечтательного старца, дававшая выход горделивым притязаниям выходящего на широкую историческую дорогу русского народа, а азбучная аксиома церковно-православного сознания, поскольку оно само, это сознание, не поддавалось действию зреющего, а потом и наступившего отступления.